Михаил Давыдов: Противораковой службы в России нет
Неужели все настолько плохо, что можно так категорично утверждать: службы в стране нет?
Специалистов в стране – особенно в городах-миллионниках – немало. Известный факт – наши хирурги в онкологии ни в чем не уступают западным коллегам, а иногда и превосходят их. В стране есть отдельные вполне неплохие медицинские учреждения, где рак лечат с достаточным успехом – в меру своих знаний и понимания процесса. Но когда я говорю, что в России нет онкологической службы, то имею в виду отсутствие четко выстроенной системы онкологической помощи россиянам, в рамках которой была бы жесткая субординация между организациями и понятное разделение полномочий между учреждениями федеральными и региональными. У нас сегодня нет преемственности в оказании онкологической помощи, а региональные структуры подчас исходят из своих местнических интересов, игнорируя рекомендации ведущих учреждений страны.
Основная задача для меня – создание системной вертикали управления специализированной помощью, с едиными принципами и стандартами, с равно эффективными и хорошо оснащенными медицинскими учреждениями – независимо от того, в столице они находятся или где-то, например, в Кировской области. Недопустимо, когда некоторые регионы вообще разгромили свои диспансеры и соединили их с многопрофильными стационарами. Это стратегическая ошибка: больница – это больница, а диспансер обязан выполнять всю противоопухолевую программу, начиная со скрининга и заканчивая сопровождением пациента во время всего лечебного процесса. Надо ли напоминать, что онкология – комплексная дисциплина?
Построение вертикали – насущнейшая проблема! Посмотрите, как она выстроена в передовых странах! В США: Национальный институт рака и все остальные институты под ним. В Японии: Национальный противораковый центр и 80 онкологических госпиталей под ним. Головные институты, финансирующиеся государством, являются основным организационным механизмом, обеспечивающим весь процесс оказания специализированной помощи.
Я понимаю, что создать в современных условиях жесткую систему будет сложно, но над этим необходимо работать. Например, сегодня совершенно неясна роль наших крупных федеральных онкологических центров. Во времена СССР они научно и методически курировали регионы, готовили кадры, участвовали в образовательном процессе. Сейчас же научные центры и институты ничем практически не отличаются от обычных областных больниц, которые получают такие же квоты и выполняют (правда, часто – лишь на словах) аналогичные операции. С чем мы сталкиваемся на практике? Приходит, скажем, житель Йошкар-Олы к онкологу за направлением на лечение в РОНЦ, а ему доктор говорит: зачем вам туда ехать – мы тоже выполняем подобные операции. Идет борьба за деньги, а судьба пациента всем нередко «до лампочки». Конечно, это большая материальная нагрузка для общества – тратить деньги на больного, нередко старого человека. В некоторых африканских племенах их просто в овраг кидают – и никаких проблем…
Выходит, сиюминутные и часто местечковые интересы мешают? Взять хотя бы ситуацию с ранним выявлением злокачественных опухолей, моделей успешного скрининга в мире предостаточно – заимствуй самые удачные и внедряй!
В России многое мешает внедрять скрининговые программы: и наш менталитет, и наша неорганизованность, и низкое финансирование, и плохая кадровая подготовка на местах. Есть примеры, когда больного по полгода лечат в многопрофильных больницах с диагнозами «гастрит» или, скажем, «геморрой», а когда случайно посмотрят на него повнимательнее, оказывается, у человека уже, например, тотальный рак желудка. Львиная доля всех наших проблем в онкологии – именно в плоскости плохой организации комплексного лечения и сопровождения пациента с самого первого дня.
Поэтому американцы рапортуют о 98 процентах 5-летней выживаемости женщин при раке груди, а по российской статистике – не более 60 процентов. Но мне кажется, что это лукавство.
У нас совершенно другая степень запущенности всех онкологических заболеваний, да и время от постановки диагноза до начала адекватного лечения, например при раке желудка, тоже сильно отличается от лучших мировых показателей.
Технологий раннего выявления опухолей, конечно, достаточно – и не только западных, но и отечественных. Задача медиков – правильно организовать потоки для скрининговых программ. И разъяснительная работа среди различных контингентов населения – тоже наша задача. Другое дело, что рядом с онкологами должны работать и врачи других специальностей – тут без государственной поддержки не обойтись.
Возьмем опять пример из американской жизни. Там при устройстве на работу, если вы курите, а ваш конкурент нет, наверняка возьмут его: некурящий здоровее по определению и к тому же не тратит времени на перекуры! Все давно уже посчитали и поняли: поддерживать людей, ведущих здоровый образ жизни, государству очень выгодно.
Говорят, на Западе бытует мнение: от онкологии стыдно умирать. Видимо, имеется в виду как раз раннее выявление недуга?
Я не слышал такой поговорки, да и что такое «Запад»? В некоторых развитых странах онкология вышла на первое место среди заболеваний – в Японии, например. Это связано с большой продолжительностью жизни: у японцев она составляет 87 лет. К тому же у них самая высокая заболеваемость раком желудка. Правда, японцы как раз «заточены» на его раннее выявление. Некоторое время назад к нам приезжал читать лекции видный японский хирург Кейши Маруяма – выяснилось, что 85 процентов всех его операций по поводу рака желудка выполняются на самых ранних стадиях. А у нас – практически все наоборот. Когда большинство пациентов поступает на лечение на первой стадии заболевания, лицо онкологии меняется: эффективность возрастает, а затраты многократно сокращаются.
Возможно, не последнюю роль в ранней диагностике рака играет онконастороженность врачей первичного звена? Как следует работать с этими специалистами, чтобы они могли заподозрить развитие опухоли как можно раньше?
Откровенно говоря, я не понимаю, что такое «первичное звено»! В добрые советские времена любой человек мог прийти в поликлинику и получить специализированную консультацию – кардиолога, уролога, онколога. Сегодня вы имеете дело с неким гипотетическим врачом общей практики, который должен разобраться один во всем за те несколько минут, что ему отведены нормативами на прием конкретного пациента. К тому же ему необходимо для страховых компаний тома отчетов успеть написать. И поскольку времени у него нет, он вообще ни в чем не разбирается, незачем.
Я всегда высказывался против реформы «первичного звена», при которой повысили зарплату только участковым врачам: по сути, это убило наши специализированные службы, онкологическую в том числе. Девочку после института сажают на прием и дают ей двадцать тысяч, а опытный хирург, которому надо кормить семью, или тот же онколог вынуждены бросать работу в стационаре.
Сегодня в российской глубинке в незакрытых еще районных больницах редко встретишь хирурга или анестезиолога: я недавно был в Кировской области – там на три района одна больничка и – без хирурга. А онкологов в стране еще меньше, и тех, что есть, надо учить и учить.
А как вы оцениваете доступность для россиян высокотехнологичных видов медпомощи, а также инновационных лекарственных препаратов?
Формально у нас доступно все – и квоты по ВМП, и лекарства любые в стране есть. Но различия в финансировании и в уровне медицинской помощи в разных регионах, в ее качестве – главная беда, для победы над которой я и считаю необходимым построение жесткой вертикали управления онкологической службой. Сегодня я, главный онколог страны, не могу сказать коллеге в регионе: «Ты неправильно лечишь пациента», ибо он мне ответит, что лечит так, как нравится его местному, региональному руководству.
Два года назад я был в Якутии, где встречался с президентом республики. Мы провели несколько пресс-конференций после того, как я побывал в местном онкодиспансере: в неприспособленном здании, с развалившимся гамма-аппаратом 1951 года выпуска (на нем проводят лучевое лечение!), без лифта (пациентов из операционной носят на носилках по этажам!). Это просто Сталинградская битва какая-то. Я сказал тогда, что суперважной задачей является построение национального онкоцентра Якутии. Все согласились. Но воз и ныне там.
И это не единственный российский регион с подобным уровнем развития онкологии.
Да и в больших городах дело обстоит немногим лучше.
В результате мы сегодня завалены пациентами с рецидивами, не долеченными в непрофильных учреждениях опухолями, вынуждены выполнять повторные операции, что гораздо тяжелее и для больных, и для хирургов.
Ежегодно в России регистрируют полмиллиона пациентов с онкологической патологией, из них 65 процентов впервые выявляют на III–IV стадиях, что требует самого дорогого – комплексного – лечения.
А что касается квот на ВМП, я с самого первого дня их появления выступал против. Что такое квота? Некий денежный сертификат на оплату неких медицинских услуг. А что такое «высокотехнологическая помощь»? Этот термин совершенно порочен. Абсолютно все, что мы делаем в онкологии, и есть специализированная помощь. А выделение ее в категорию
«высокотехнологической» довольно условно: многие сложнейшие операции в перечень почему-то не вошли. Кроме того, сумма квоты не оплачивает всех затрат: она равна сегодня 109 тысячам рублей, а мы подчас расходуем на пациента полтора миллиона. И вынуждены постоянно мудрить и выкручиваться.
Согласно решению Минздрава России, с 1 января будущего года ряд видов помощи, имеющих статус высокотехнологической, переходят в ранг специализированной. Возрастет ли доступность этих видов помощи для больных?
Какая разница, как назвать медицинскую помощь – высокотехнологической или специализированной? Важно, чтобы эта помощь была качественной, эффективной и хорошо профинансированной.
Иногда кажется, что мы все играем в какую-то нелепую игру, сути которой многие не понимают. Сегодня все каналы финансирования – деньги ОМС, квоты, бюджет – разные источники, но из одного кармана. Их искусственное разделение – глупейший подход! И на каждом «пересечении» деньги теряются, хотя каждый «канал» отдельно контролируется. Мы, например, по системе ОМС работаем с 22 страховыми компаниями – это 44 проверки в месяц. Грузовиками возим макулатуру – отчеты. А зачем они нас проверяют? Стремятся лучше организовать процесс лечения? Нет, надеются снять деньги: малейшая неточность в оформлении документов – результат-то лечения никого не интересует – и штраф. В итоге получается, что вы лечили больного за собственные средства.
Отменить квоты и все оплачивать через фонд ОМС – тоже непонятная модель. Пока не придумано ничего умнее сметного финансирования, когда учреждение в начале года получало деньги из расчета его коечной мощности и объемов выполняемых работ. Имея смету, руководитель мог планировать какие-то мероприятия – закупку оборудования, лекарственных средств. Сейчас, откровенно говоря, все слишком запутанно. По-моему, пора заканчивать болтовню про одноканальное, многоканальное финансирование – оно просто должно быть адекватным. Все очень просто. А сегодня наш центр финансируется на треть от его потребностей.
В ситуации недофинансирования особенно остро стоит проблема доступности обезболивающих наркотических препаратов для паллиативных больных. Что вы как главный онколог считаете необходимо предпринять, чтобы облегчить страдания людей?
Дело не в оплате, наркотики недороги, а в законах. Мы катастрофически усложнили ситуацию – опять же не продумав ничего стратегически. Подчас медучреждения просто не хотят брать наркотики: условия хранения так ужесточены, что это настоящая головная боль для руководства. За тобой следит немыслимое количество контролирующих организаций, и многие ограничиваются закупкой обезболивающих препаратов среднего класса, что совершенно не решает проблемы. В итоге, если сравнить Россию с той же Швейцарией – мы применяем в онкологии наркотические средства в 40 раз реже, чем они. Конечно, и знаний в области лекарственной терапии паллиативных больных нашим онкологам явно не хватает.
Почему-то у нас не получается сразу все сделать правильно – сначала надо заварить что-то бестолковое, а потом пытаться исправить, еще более усугубляя ситуацию.
Возможно, свою положительную роль могут сыграть прорывные научные открытия в области онкологии? Есть ли они в мире, в России, в РОНЦ им. Н.Н. Блохина?
Уже последние лет 15 в клинику активно внедряются научные достижения – в одной только онкогематологии удалось добиться потрясающих результатов: раньше дети и подростки за неделю-другую сгорали от лимфомы, а теперь не только выздоравливают, но и потом женятся, рожают детей. Та же таргетная химиотерапия – результат открытий в фундаментальной науке.
Правда, 90 процентов всей информации по фундаментальным исследованиям сегодня идет из-за рубежа, поскольку российская наука до сих пор хромает на обе ноги. Не по своей вине – последние лет двадцать пять ее финансирование было чахоточным, многие ученые уехали работать в западные лаборатории, где сейчас занимают довольно серьезные позиции. Они, конечно, нам помогают – делятся своими наработками, препараты привозят нашим ученым для клинических исследований. Словом, наша наука как-то жива, но о развитии говорить пока не приходится.
Научный центр, который вы возглавляете, находится в юрисдикции РАМН, как вы относитесь к событиям вокруг реформирования Российской академии наук?
Эта реформа не имеет ни одного аргумента в свою пользу. Сливание академий – нелепая конструкция, которая будет вообще неуправляемой. К тому же с первого дня появления этого законопроекта были нарушены все мыслимые правила. «Мероприятие» это вызвало протест, поскольку никто не понимал смысла происходящего. Решили отобрать у академических институтов имущество? Так у нас его нет – все права собственности принадлежат Минимуществу, а у нас те же здания находятся в оперативном управлении. Словом, ничего конструктивного в данную реформу не привнесено.
А самое конструктивное при реформировании онкологической службы – это все-таки создание жесткой вертикали управления?
Да, потому что внутри онкологических структур достаточно много разночтений, и спорные вопросы можно годами обсуждать – при отсутствии субординационных отношений. Нам нужно наладить контакт между учреждениями, обмен опытом, чтобы качество лечения в регионах было таким же высоким, как в лучших учреждениях Москвы и Петербурга.
Я двум предыдущим министрам здравоохранения писал проекты создания российской онкологической службы, но они проигнорировали мои идеи. Нынешний министр Вероника Скворцова – медик. Она понимает задачи, стоящие перед любой медицинской дисциплиной.
Правда, онкология – одна из самых сложных дисциплин.
Во-первых, это проблема мультидисциплинарная, и потому при лечении опухолей задействовано много разных специалистов.
Во-вторых, половина проблем вообще малоизвестна и находится на этапе изучения.
Поэтому когда кто-то решает поставить задачу снижения смертности от онкологических заболеваний и уже через полгода рапортует о положительных результатах – это вызывает только смех. При этом всем надо помнить: только 40 процентов наших больных имеют морфологически подтвержденный диагноз.
И наша статистика хромает на обе ноги, и патоморфологов в стране почти не осталось – эту службу тоже придется воссоздавать практически с нуля.
Не хочется завершать разговор на пессимистической ноте…
А кто говорит про пессимизм? Мы ясно представляем, где находимся, и готовы к решению сложных задач. Необходима срочная ревизия существующих региональных центров, клиник, раковых регистров, инфраструктуры всех профильных учреждений. Надо определить место федеральных институтов, призванных разрабатывать передовые технологии лечения. Нужно срочно пересмотреть номенклатуру специальностей в онкологии. Словом, надо активно работать, и первостепенную роль в этом процессе должна сыграть Ассоциация онкологов России.
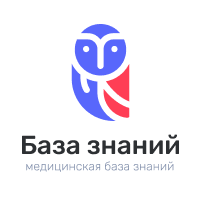
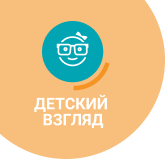



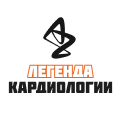


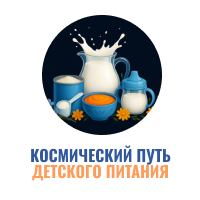


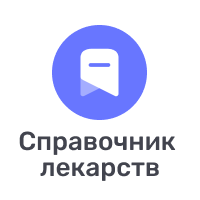





Нет комментариев
Комментариев: