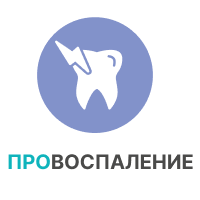Новые возможности оценки и терапии синдрома Хантера
Мукополисахаридоз 2-го типа (МПС 2-го типа), также известный как синдромом Хантера, — это редкое генетическое заболевание, которое приводит к накоплению мукополисахаридов (гликозаминогликанов) в организме. Синдром Хантера характеризуется грубыми чертами лица, увеличением печени и селезенки, задержкой развития, проблемами с сердцем, слухом, речью и суставами.
В рамках 25-го Конгресса педиатров России с международным участием «Актуальные проблемы педиатрии» были обсуждены новые возможности оценки и терапии этого орфанного заболевания.
Разработчик лекарства от болезни Фабри рассказал о своем отношении к биоаналогам

Профессор и основатель кафедры генетики Медицинской школы Икана при больнице Маунт-Синай в Нью-Йорке Роберт Дж. Десник принял участие в XI съезде Российского общества медицинских генетиков, прошедшего в мае 2025 года в Санкт-Петербурге. На сателлитном симпозиуме, посвященном болезни Фабри, он рассказал не только об опыте поиска терапии для пациентов с болезнью Фабри, но и о своем отношении к биоаналогам. Кроме того, участники симпозиума обсудили проблемы диагностики и лечения заболевания.
Как появился первый в мире препарат для болезни Фабри
Роберт Дж. Десник начал работу над терапией болезни Фабри в 60-х годах. Тогда еще не было известно, с каким ферментом она связана. Врачи могли только измерять тот метаболический продукт, который накапливался в миокарде, почках и других тканях.
«В лаборатории нам удалось выделить и очистить фермент, полностью определить его аминокислотную последовательность и клонировать соответствующий ген. Это было в начале эпохи клонирования, и этот ген точно вошел в первую десятку успешно клонированных. После того как мы досконально изучили его, стало достаточно лишь образца крови человека, чтобы понять, повреждена ли структура гена, есть ли в нем мутации», — рассказал Десник.
Следующим этапом стала попытка воссоздать фермент α-галактозидаза А в лабораторных условиях. Необходимо было присоединить к нему углеводные остатки, которые определяют, куда попадет молекула фермента, оказавшись в кровотоке. «Мы смогли сделать и это. Наша команда открыла методику, и она стала основой для дальнейшего создания многих других ферментов, которые используются для заместительной терапии лизосомных болезней. Сейчас ею пользуются по меньшей мере 10 лабораторий», — поделился ученый.
Болезнь Фабри стала одной из первых среди нескольких тысяч редких генетических нарушений метаболизма, для которой была разработана ферментозаместительная терапия. Первый, так называемый классический, был описан Джоном Фабри в 1899 году. Причина болезни — отсутствие у пациентов критически важного фермента — α-галактозидаза А, который препятствует накоплению метаболического продукта — гликолипида. Метаболит накапливается в различных тканях и приводит к нарушению их работы. Часто страдают почки, возникает гипертрофия миокарда, случаются ишемические инсульты.
К регистрации практически одновременно пришли два препарата. Один — агалсидаза бета разработка профессора Десника и его команды и партнеров, второй — агалсидаза альфа. Им занималась группа других экспертов. После того как оба препарата прошли III фазу клинических исследований, FDA провело специальное административное заседание. Инспекторы изучали фармакологические сведения и данные о клинической эффективности. В итоге регулятор решил в 2003 году зарегистрировать только агалсидазу бета.
«Разработчики агалсидазы альфа использовали другую технологию, при которой фермент имел меньше углеводных остатков на поверхности молекулы по сравнению с агалсидазой бета», — пояснил Десник.
«Именно эти остатки, в частности, маннозо-6-фосфатные группы, играют ключевую роль в маршрутизации фермента в лизосомы — органеллы, в которых и локализуется основная патология болезни Фабри. В отличие от агалсидазы бета, агалсидаза альфа также не приводит к полному клиренсу субстрата из почек», — добавил ученый.
По его словам, даже когда на национальном рынке США наблюдалась дефектура агалсидазы бета, FDA не дало согласие на выпуск агалсидазы альфа. В то же время в Евросоюзе и некоторых других странах (в том числе в России) зарегистрированы оба препарата.
«День регистрации агалсидазы бета оказался для меня чрезвычайно важным. Решение регулятора стало наглядным подтверждением значимости той работы, которую я вел с 60-х годов», — отметил профессор.
Что такое биоаналог
По словам Десника, для него как для разработчика, было важно, что в течение 20 лет действовала патентная защита агалсидазы бета, так как это позволяет вернуть инвестиции и вложить их в разработку новых лекарств. «У меня достаточно однозначный к этому подход, собственная философия. Я разработал пять препаратов, которые зарегистрированы и FDA в США, и EMEA в ЕС, и когда истекает срок патентной защиты, я буду только рад, если другие компании разработают аналоги или копии», — сказал он.
Выход биоаналогов — новый этап жизни препарата, когда терапия становится еще более доступной. Как отметил Десник, важно при этом, чтобы биоаналог был полноценной копией, чтобы он оказывал тот же терапевтический эффект, что и оригинальная разработка.
Выпускаемый в России биоаналог «Фабагал», по словам Десника, прошел предварительное всестороннее исследование для подтверждения соответствия оригиналу. «Для меня это очень важно, — сказал он. — Мы сравнили все физические характеристики, генетику препаратов, они полностью идентичны, и доза точно та же».
Важное преимущество биоаналогов — меньшая стоимость. Далеко не всегда у пациентов есть полноценная возможность получить лечение. Меньшая стоимость позволяет расширить круг пациентов. В России стоимость биоаналога меньше на 40% по сравнению с оригинальным препаратом.
Что думают российские ученые
У российских специалистов есть лекарства, которыми они могут лечить пациентов с болезнью Фабри. Директор клиники им. Е.М. Тареева, заведующий кафедрой профессиональных болезней и ревматологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Сергей Моисеев рассказал, что в его клинике биоаналог получает 61 пациент.
Возможно, в большей степени врачей волнует другой вопрос: как выявить среди россиян тех, кто страдает болезнью Фабри? По словам С. Моисеева, в России 350 пациентов страдают этим заболеванием, в пересчете на население России — это один на 400 тыс. Это заниженная цифра, если сравнивать показатели в других странах. Как правило, в мире таких пациентов 1 на 50—100 тыс. населения, следовательно, в России может быть 2,9—5,8 тыс. больных.
Как рассказала заведующая отделом молекулярных механизмов наследственных нарушений метаболизма Медико-генетического научного центра им. акад. Н.П. Бочкова Екатерина Захарова, для выявления больных используются несколько стратегий. Например, семейный скрининг, когда осуществляется обследование всех членов семьи больного, которому уже поставили диагноз.
Также существует селективный скрининг, когда исследуются пациенты с необъяснимой гипертрофией левого желудочка, терминальной стадией почечной недостаточности, необъяснимой протеинурией или микроальбуминурией, ранним инсультом (15—55 лет).
По словам Е. Захаровой, она осторожно относится к идее неонатального скрининга. По ее мнению, более эффективным было бы массовое обследование детей перед школой.
Эксперты отметили, что в России есть доступное лечение для пациентов с болезнью Фабри — ферментозаметительная терапия, которая позволила продлить и улучшить качество жизни пациентов.